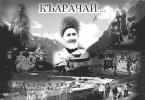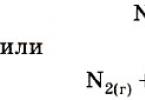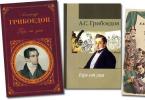75 лет назад Народный комиссариат внутренних дел СССР приступил к принудительному выселению карачаевцев из мест исторического проживания в Казахстан и Киргизию. Депортация применялась в рамках комплекса репрессивных мер, примененных к ряду народов Северного Кавказа. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Николай Бугай считает национальную политику того периода причиной межнациональных конфликтов в современной России.
Депортация немногочисленного тюркоязычного народа проводилась в соответствии с Указом президиума Верховного Совета «О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории» от 12 октября 1943 года.
«В период оккупации немецко-фашистскими захватчиками территории Карачаевской автономной области многие карачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью,
предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы на Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь», — говорилось в документе.
В связи с изложенными доводами в первом же пункте Указа постановлялось переселить всех карачаевцев «в другие районы СССР». При этом официально пораженных в правах людей не предполагалось оставлять без средств к существованию, грубо говоря, выгруженными из вагонов и брошенными в глухой степи. ВС поручал Совнаркому «наделить карачаевцев в новых местах поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по хозяйственному устройству».
Административное деление районов Карачаевской автономии, до событий входившей в состав Орджоникидзевского (с 12 января 1943 года - Ставропольского) края, претерпевало значительные изменения, а географические объекты переименовывались. Согласно решению Верховного Совета, переносилась граница между РСФСР и Грузинской ССР. Указ был подписан председателем президиума ВС .
Выселение карачаевцев с исконных земель проходила по уже отработанной на других народах четкой схеме. К двум часам ночи 2 ноября 1943 года отряды НКВД и помогавшие им милиционеры оцепили города и аулы, блокировали выездные пути и выставили засады. С четырех часов утра чекисты и милиционеры приступили к арестам подозрительных или оказывавших сопротивление лиц. На выдворение каждого населенного пункта отводилось от трех до шести часов.
Из Карачая в Казахстан и Киргизию было отправлено 34 эшелона по 2000 человек в каждом. Спецоперация продолжалась до 5 ноября. Первые вагоны с вынужденными переселенцами прибыли на место назначения 10-го, последние — 22-го.
Всего были депортированы 68 614 карачаевцев, в том числе глубоких стариков, женщин и детей.
Реализацией процесса занимался контингент общей численностью в 53 327 силовиков.
Многие депортированные столкнулись с нехваткой жилья, одежды и пищи, в результате чего целые семьи вынужденно ютились в полуразрушенных домах и землянках. Как и у других репресированных народов, у карачаевцев наблюдалась повышенная смертность. В первые два года убыль населения составила более 23% от первоначальной численности переселенных. Фиксировались случаи побега. К пойманным применялись жесткие меры как к опасным преступникам.
Подавляющее большинство граждан СССР долгое время даже не догадывалось о происходивших в стране депортациях. Литература послевоенных лет напрочь игнорировала эту проблему, сообщается в статье доктора исторических наук Евгения Кринко «Национальная политика и межнациональные отношения на Северо-Западном Кавказе в годы ВОВ: историография проблемы», опубликованной в первом выпуске журнала «Гуманитарная мысль Юга России» за 2005 год. Ничего не рассказывалось о дальнейшей судьбе репрессированных. Лишь в отдельных исследованиях, вышедших уже после смерти Иосифа Сталина, встречаются упоминания о том, что среди кавказских народов нашлись те, «которые в 1942 году изменили союзу с великим русским народом».
За 5,5 месяцев нацистской оккупации в Карачае, как и в других регионах Кавказа отдельные жители действительно сотрудничали с немцами. Некоторые воевали с красными еще в Гражданской войне, после которой ушли в подполье. Труднодоступная гористая местность края, крепкие родственные связи и вековые традиции создавали хорошие возможности для успешного длительного укрывательства от властей. Плюс к тому о многих «антисоветских» деятелях Карачая в тотальной неразберихе начала 1920-х годов попросту забыли. Тем не менее, уже в 1930-е здесь отмечались вооруженные выступления против коллективизации. Обиженными вполне естественно чувствовали себя зажиточные земледельцы, представители духовенства, бывшие горские князья, уцелевшие белогвардейские офицеры карачаевской сотни «Дикой дивизии». Немногочисленные восстания подавлялись красноармейцами, однако напряжение и ненависть к государственному строю только росла.
Сегодня принято считать, что коллаборационизм карачаевцев в годы Второй мировой войны не носил системный характер, хотя существование отдельных повстанческих группировок радикально антисоветской направленности никогда не ставилось под сомнение. В период оккупации Кавказа немецкая администрация опиралась в Карачае на «Карачаевский национальный комитет», которому были переданы достаточно широкие полномочия по управлению в регионе. Верхушка комитета - это, собственно, и привлекло внимание немцев - стояла на жестких националистических позициях и начала борьбу с советской властью еще до оккупации. После изгнания нацистов существование таких организаций дало руководству страны повод обвинить в «предательстве» всех карачаевцев.
В то же время немало было и тех, кто служил в РККА. Со стартом Великой отечественной войны на фронт от Карачаевской автономной области отправились 15 600 бойцов (карачаевцы составляли тогда 46,8% населения региона). Еще 3000 были направлены в трудовые армии.
По данным правозащитников, погибли, попали в плен или пропали без вести более 8000 жителей Карачая. В горах действовали партизанские отряды общей численностью около 1200 человек.
Согласно формулировке историка Николая Кирсанова, оккупанты на захваченной территории стремились «активизировать, а во многих случаях сотворить заново антисоветский или антирусский фактор».
«Нередко им это удавалось, — подытоживает исследователь. — Тому благоприятствовали сложности этнической структуры в СССР, усугубленные историческими пережитками, националистическими предрассудками, ошибками и перекосами в политике».
«Нельзя отрицать, что среди карачаевцев, как и у других народов страны, имели место случаи дезертирства, проявления трусости и другие нежелательные явления, но не единичные факты характеризуют карачаевский народ. Наоборот, большой фактический материал говорит о бесстрашии и героизме карачаевцев, о патриотизме и самопожертвовании во имя победы над врагом», — написал в своей кандидатской диссертации «Карачаевская и Черкесская партийные организации в годы ВОВ» крупный исследователь темы, доктор исторических наук Чермен Кулаев, который первым ввел в оборот материалы архивов.
Он возлагает вину за депортации на наркома внутренних дел , который «создал обстановку недоверия и подозрительности к отдельным народам, пытаясь противопоставить одни народы Кавказа другим».
Историк Бугай также уверен, что ответственность за выселение карачаевцев несут исключительно Сталин и его окружение.
«Остальные участники событий — комиссары, офицеры, солдаты — были лишь рядовыми исполнителями», — убежден специалист.
Такой подход разделяют не все знатоки проблемы. Некоторые убеждены, что почва для депортаций, напротив, готовилась не сверху, а снизу.
В монографии Владимира Шнайдера «Советское нациестроительство на Северном Кавказе (1917 - конец 1950-х гг.): закономерности и противоречия» со ссылкой на работы других авторов в качестве основного мотива переселения карачаевцев приводится стремление расширить территорию Грузии за счет Карачая. При этом строятся лишь предположения, чьей конкретно инициативой это было: республиканских начальников или непосредственно Сталина. В качестве аргументов в пользу данной версии приводится карта почв северного склона Кавказа, выпущенная в 1942 году в Казани: большинство карачаевских населенных пунктов обозначены на ней по-грузински, а столица области Микоян-Шахар (ныне Карачаевск) значится как Клухори - это название было закреплено Указом Верховного Совета от 12 октября 1943 года. Возможно, ЦК ВПК (б) рассматривало вопрос о выселении задолго до войны, но не пришло к единому выводу о сроках.
Как утверждает историк Бугай, власти могли опасаться сближения тюркоязычного народа с недружественной СССР, но ментально близкой карачаевцам Турцией.
Другой веской предпосылкой к переселению карачаевцев и других народов могла являться острая потребность Казахстана и Киргизии в дешевой рабочей силе. Автор также обращает внимание на роль в событиях тогдашнего первого секретаря Ставропольского крайкома, в будущем — главного партийного идеолога Михаила а:
он якобы стремился свалить вину за провал партизанского сопротивления во вверенном ему регионе на коллаборационизм карачаевцев.
Существует версия и о личной мести функционера карачаевцев за нанесенную обиду: якобы во время первой поездки в горы Суслов повел себя не в соответствии с обычаями, о которых не имел полного представления, и нарвался на «горячий прием». Впрочем, другие историки призывают не преувеличивать масштаб фигуры Суслова в рассматриваемый период и не считают его роль в репрессиях существенной, и, главное, хотя бы немного самостоятельной.
Реабилитация репрессированных народов началась в эпоху хрущевской «оттепели», однако в эти годы она не получила своего завершения, а депортации не было дано соответствующей политической и правовой оценки. Даже текст указа президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года «О преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область» не публиковался в полном объеме. Политическая реабилитация карачаевцев произошла только в 1991 году.
Реабилитация карачаевцев, депортированных 75 лет назад в Среднюю Азию и Казахстан, обошлась без территориальных конфликтов, но в моральном плане осталась незавершенной, указал председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. Россия до сих пор не дала правовой оценки сталинским репрессиям в отношении народов, подчеркнула историк Патимат Тахнаева.
При этом ученый полагает, что важно уделять не меньшее внимание дню возвращения репрессированных народов, как "дню торжества справедливости".
"Правильно, что мы вспоминаем [депортированных], но мне кажется, что следовало бы отмечать не только день депортации, но и день возвращения народов, когда восторжествовала справедливость. Простые люди встречали переселенцев доброжелательно, помогали обустроиться. Важно отделять политику власти и отношения между народами", - заключил историк.
Россия, будучи правопреемницей СССР, не дала правовой оценки сталинским репрессиям, заявила научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева корреспонденту "Кавказского узла".
"Депортации, коллективизация и индустриализация были беззаконием и произволом. К сожалению, правопреемник СССР, российское государство, не стало давать правовую оценку этим действиям, мы ее так и не услышали", - сказала Тахнаева.
Депортации - практика коллективной ответственности
Обвинение народов в сотрудничестве с фашистами всегда оформлялось в обход всяких законных процедур и не имело точных юридических формулировок, отметила она.
"Я пыталась найти [архивные] чеченские документы, не смогла этого сделать. Официальное обоснование - "за сотрудничество с немцами", "предательство", - это были расплывчатые формулировки. Сделали виновными народы, а каким образом проводилось следствие, по какому закону их судили, - [ответа нет]", - отмечает Тахнаева.
Даже в поздние советские годы была широко распространена практика коллективной ответственности, добавила она. "Значительная часть СССР находилась под оккупацией и все были под подозрением. При устройстве на работу в личном листке, который выдавали в отделе кадров, был вопрос, были ли родственники [человека] под оккупацией. Была всеобщая подозрительность", - заключила Тахнаева.
На практику коллективной ответственности указал и Алий Тоторкулов. "В то время все оформлялось секретными докладами НКВД, и когда рассекретили эти документы, выяснилось, что в НКВД рисовали, что хотели. В горном карачаевском селении во время войны шла свадьба, туда приехали сотрудники НКВД. Прямо в этом доме, где шла свадьба, застрелили хозяина дома под предлогом, что идет война, а вы тут свадьбу играете. Народ в ярости уничтожил этих сотрудников, которые повели себя таким образом - и вот они в докладах, сводках НКВД обозначили, что народ против советской власти, убили сотрудников НКВД. Подтасовок было море", - рассказал он.
Тоторкулов также напомнил об обвинении карачаевцев в уничтожении еврейских детей, которое стало одним из поводов для выселения.
"Сейчас это уже известно, что карачаевцы провожали еврейских блокадных детей в Грузию, многие [благодаря им остались] живы, - а в то время карачаевцев обвинили в том, что они убивали еврейских детей. Сами дети войны, евреи, опровергли это, рассказывая, как карачаевцы их спасали", - заключил Тоторкулов.
Карачаевцы первыми среди кавказских горцев подверглись в годы Великой Отечественной войны репрессиям по сфабрикованным обвинениям, а позднее из исторических мест проживания также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Расследования и проверки, проведенные позднее генпрокуратурами СССР и РСФСР, а также прокуратурой Ставропольского края, позволили полностью опровергнуть обвинения в расстрелах раненых красноармейцев и еврейских детей, выдвинутые против карачаевского народа и ставшие поводом для выселения, указано в опубликованном 2 ноября материале ТАСС.
Конкретные истории еврейских детей, спасенных карачаевцами, также приводятся в материале. Так, в 1994 году израильский Институт памяти катастрофы и героизма "Яд ва-Шем" присудил карачаевцам Шамаилу и Фердаус Халамлиевым, а также их сыновьям Мухтару и Султану почетное звание "Праведник народов мира" за спасение трех еврейских девочек, эвакуированных после расстрела их родителей нацистами из Киева в Карачаевск. Девушки бежали после оккупации Карачаевска в горы, где их нашел житель Теберды Мухтар Халамлиев и привел в дом своих родителей.
Ход депортации карачаевцев
Указ и постановление о поголовном выселении карачаевцев, ликвидации Карачаевской АО и об административном устройстве ее территории вышли 12 и 14 октября 1943 года. В тексте указа утверждалось, что «многие карачаевцы» вели себя "...предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь", говорится в работе историка Павла Поляна "Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после ее окончания (1939–1953)".
Для силового обеспечения депортации карачаевцев были задействованы войсковые соединения общей численностью 53 327 человек. "Поскольку план по депортации рассчитывался на 62 842 человека, из них только 37 429 - взрослого населения, то на каждого взрослого безоружного карачаевца, включая женщин, приходилось чуть ли не по два вооруженных чекиста", указывает Полян.
После депортации карачаевцев вся территория Карачаевской автономной области была поделена между Ставропольским краем, Грузией и Краснодарским краем.
Фонд "Эльбрусоид" приводит на своем сайте воспоминания Асият Элькановой, которая в 1943 году была редактором областной газеты "Къызыл Къарачай".
"В 2 часа ночи с первого на второе ноября, завершив работу над газетой, мы с литработницей Супият Аджиевой пошли домой. Утром в 6 часов кто-то постучал в дверь. На пороге стоял знакомый лейтенант с двумя красноармейцами. Он поздоровался и, покраснев, сказал: "Товарищ Эльканова, вас выселяют, надо собрать вещи и продукты. Вам подадут автобус, а мы поможем вам собрать вещи". Я растерялась. Потом, придя в себя, спросила: "Вы придумали неуместную шутку или ошиблись адресом?". Тогда он прочитал бумагу, которую держал в руке. Слезы застилали глаза, не хотелось верить в чудовищную несправедливость", - говорится в воспоминаниях Элькановой.
Многие депортированные карачаевцы столкнулись с нехваткой жилья, одежды и пищи: "целые семьи вынужденно ютились в полуразрушенных домах и землянках", смертность людей в таких условиях была очень высока. В первые два года убыль населения составила более 23% от первоначальной численности переселенных.
По мнению доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации, численность карачаевцев в России к 2009 году была бы вдвое большей и составила бы 400-450 тысяч человек.
Фиксировались случаи побега, к пойманным применяли жесткие меры как к опасным преступникам. При этом "подавляющее большинство граждан СССР долгое время даже не догадывалось о происходивших в стране депортациях", указывается в опубликованном 2 ноября материале издания "Газета.Ru".
Годовщина депортации карачаевцев: воспоминания жертв репрессий
В Карачаево-Черкесии 2 и 3 ноября проходили мероприятия, приуроченные к 66-й годовщине депортации карачаевского народа. Своими воспоминаниями о массовом переселении карачаевцев в Среднюю Азию с корреспондентом "Кавказского узла" поделились жители республики, ставшие жертвами политических репрессий ноября 1943 года.
Жительница города Карачаевска Фатима Лепшокова, 1936 года рождения, на всю жизнь запомнила день выселения.
«Было морозное утро, мама пошла доить корову, а я во дворе кормила птицу, - вспоминает женщина. - Вдруг в калитку вошел человек в солдатской шинели. Я позвала мать, она отправила меня в дом, они недолго разговаривали, и мама вернулась, лицо было в слезах. Собирались мы быстро. В большой платок завернули теплые вещи и хлеб - больше ничего брать с собой не разрешили. В сарае остался скот, во дворе - птица и барашки. Нам ничего не объясняли, даже куда нас везут и за что».
По словам Фатимы Лепшоковой, в их семье было одиннадцать детей, вернулись из ссылки в 1959 году - только пятеро. Деда и бабушку тоже похоронили в Казахстане. Отец с войны не пришел.
«Я помню, как от тифа умерло сразу двое младших, тиф тогда вообще погубил многих. Мама хоронила их, завернув в одеяло. Потом еще один - уже от голода», - рассказывает женщина, пережившая депортацию.
Узнав о том, что можно вернуться на родину, семья Лепшоковой решила возвращаться не задумываясь. «Мы ехали домой, хотя наши дома уже не были нашими, и мы их выкупали, потому что перед тем, как выехать из Казахстана, мы подписывали бумаги о том, что не будем претендовать на прежнее жилье», - рассказала женщина.
Свою историю корреспонденту "Кавказского узла " рассказал и Мумиат Бостанов, также переживший массовую высылку карачаевцев на чужие земли в 1943 году. Пожилой мужчина вспоминает, как в голодные годы в Средней Азии мать растягивала стакан кукурузной муки на неделю, готовя из нее суп-баланду на семерых человек.
«Сейчас, когда я вижу, как черствый хлеб выносят скотине, я очень ругаюсь на детей. Мы мечтали о хлебе. Мы были на уровне скота, перевозимого в товарных вагонах. Всех везли вместе - и стариков, и детей, и женщин. Мы заворачивали умерших в дороге в одеяла и отдавали людям на станциях, но в дороге умерло не так много, как там, в степи, от голода. Я помню, как женщина-казашка в первую ночь пустила нас переночевать в сарай, но не пустила в дом. В ту ночь мать у нее просила еды, но она сказала, что еды нет. Мы заснули голодными и уже на утро вместе с ней пошли на поле собирать оставшуюся свеклу, которую мать натирала на терке и добавляла в суп. Голод в то время был самым первым врагом, люди опухали от голода, но работали. Сотни умирали от болезней- лекарств не было, лечить было некому», - рассказал Мумиат Бостанов.
По его воспоминаниям, самым тяжелым было время до 1946 года, а после окончания войны, жизнь стала налаживаться: появилась работа на полях, стала нужна рабочая сила. За работу давали хлеб, муку, сахар.
«Возвращались домой мы уже зажиточными людьми, - улыбается старик. - В наших домах тогда жили грузины, пришедшие из-за перевала. Говорят, именно поэтому Сталин и выселял наш народ - ему нужна была земля. А все что говорят о предательстве народа (обвинения карачаевцев в коллаборационизме - прим. "Кавказского узла") - это только официальная версия, не имеющая оправдания за все те зверства, которые произошли, даже если такие единицы и были. Была война, был голод, всякое могло быть – люди ведь разные, но «по паршивой овце – все стадо не судят» и тем более не уничтожают».
Между тем, историк Мурат Шебзухов, этнический черкес, считает, что выселение пагубно отразилась на карачаевском народе только в годы выселения, а после - лишь сплотило народ.
«Этот народ научился выживать, в любых условиях. Они научись единству. Большая часть их вернулась на родину, а вот после Кавказской воны тысячи черкесов не смогли вернуться с территории Турции. В разные исторически периоды народы Кавказа по-разному перенесли фактическое уничтожение. А на то, чтобы возродиться, уходят сотни лет», - отметил историк.
В свою очередь, абазин Шамиль Тлисов отметил, что у горя человека нет национальности. «Когда видишь человеческую боль в глазах - что уж точно не приходит в голову, так это спросить его о его национальности. Горе одного народа - горе всех. А струны национальной гордости часто становятся основным инструментом политических грязных игр, разрушающих теплые соседские отношения», - считает он.
В 1991 году был принят Закон "О реабилитации репрессированных народов" . Однако применение этого документа на практике оказалось осложнено многими факторами, что пока не позволяет считать закон исполненным во всех отношениях ко всем народам, подвергшимся массовым репрессиям в СССР.
9 октября 1943 г. руководство Казахстана, ссылаясь на указания Госкомитета обороны СССР, предписало руководителям ряда областей̆ готовиться к приему переселенцев с Северного Кавказа. Через три дня, 12 октября, был издан Указ президиума Верховного совета СССР за номером 115-13 о выселении карачаевского народа в Казахскую и Киргизскую ССР.
«Всех карачаевцев, проживающих на территории области, переселить в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать», - говорилось в документе.
В качестве причины депортации карачаевского народа указывалась их якобы массовое пособничество фашистам во время немецкой оккупации территории Карачаевской области, а после освобождения Советской армией – нежелание выдавать тех, кто потворствовал фашистам.
Германская армия прорвала советскую оборону 15 июля 1942 года и широким фронтом, охватывая почти 500 км в ширину, двинулась на Кавказ. Уже 21 августа немцы водрузили флаг на вершине Эльбруса (этот флаг оставался там до 17 февраля 1943 года, когда его скинули советские войска). 25 октября немцы захватили Нальчик, бои шли на подступах к Владикавказу и Малгобеку.
Дата начала оккупации позволяет понять, что по времени немецкая власть толком и не успела утвердиться в регионе, оккупация длилась от силы четыре месяца. И ссылки на то, что все депортированные народы успели настолько погрязнуть в сотрудничестве с немцами, мягко говоря, вызывают обоснованные сомнения: когда же они все это успели?
Надо учитывать еще, что часть бывшего СССР находились под оккупацией от двух до трех лет. При этом процент сотрудничавших с немецкой властью был куда более высоким и значительным, чем это приписывается северокавказским народам.
Сразу же после освобождения территории Карачая, наказывая тех, кто пошел на сотрудничество с немцами, советская власть уже в апреле 1943 года предполагала выселить 573 семей. Однако, в связи с тем, что 67 особо разыскиваемых властями сами сдались, число переселенцев было снижено до 110 семей, и их выселили в августе 1943 года.
Но этого Москве показалось недостаточным действием – в октябре было решено выселить всех карачаевцев. Ровно 73 года назад, рано утром 2 ноября, всех карачаевцев без исключения – мужчин и женщин, детей и стариков – начали собирать на площадях сел и городов. Женщин отделяли от мужчин (это заставляло мужчин избегать побега или каких-либо действий против военных, была угроза расстрела жен, сестер и матерей). Данная практика, опробованная на карачаевцах, один к одному позднее применялась при выселении других народов Северного Кавказа - чеченцев, ингушей, балкарцев, а также и татар Крыма.
В те дни, с 2 по 5 ноября, было выселено порядка 69 тысяч карачаевцев для дальнейшего проживания в северных степях Казахстана и Киргизии. Врагами и пособниками немцев были объявлены новорожденные дети, старики, которые с оружием в руках защищали эту страну в период империи, и в период советской власти, женщины преклонных лет. Все стали врагами по желанию всесильного тирана Иосифа Сталина.
Большая смертность была в пути - холод и голод убивали детей и стариков первыми.
Депортация из Карачая длилась всего три дня. Для исполнения приказа были задействованы 53 347 военных, снятых с фронта. В соотношении к населению самого Карачая на тот момент, получается один полностью вооруженный военный на 1,25 гражданского карачаевца. Всего было отправлено 32 эшелона, в каждом из них было по 2000-2100 человек. В каждом вагоне в среднем 58 человек, и, учитывая что вагоны были для перевозки скота, а ткаже меньших габаритов, чем обычные пассажирские вагоны тех лет, то практически негде было укладывать детей или больных.
Первые эшелоны начали прибывать 10 ноября. Последний эшелон, вышедший из Карачаевска 5 ноября, достиг пункта назначения только после 20 ноября. Большая смертность была в пути - холод и голод убивали детей и стариков первыми.
Смертность в первые годы (до 1949 года) на местах депортации превышала рождаемость. Общая численность среди карачаевцев за первые пять лет депортации сократилась больше чем на 13 тысяч человек к 1948 году. Первые месяцы карачаевцы считали, что их привезли умирать, однако, уже по мере прибытия других народов, крепла надежда, что все изменится и будет возможность вернуться домой.
Карачаевцы помнят историю депортации в деталях.
Александр Некрич, один из тех, кто исследовал политику СССР в отношении депортированных народов, отмечал, что одной̆ из основных форм протеста представителей̆ репрессированных народов против принудительной̆ ссылки стали побеги на родину. В силу этого власти СССР вынуждены были 26 ноября 1948 г. ужесточить наказания за побег и принять Указ президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной̆ ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной̆ войны». В нем говорилось, что переселение чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев и других репрессированных народов «произведено навечно, без права возвращаться к их прежним местам жительства». За побег вводилось суровое наказание - 20 лет каторжных работ. Но это не останавливало тех немногих смельчаков, кто разными путями пробирались к себе на родину.
После долгих 14 лет, 3 мая 1957 года, первый эшелон с карачаевцами прибыл в родные края. Это стало началом борьбы за реабилитацию. Вот уже больше 70 лет карачаевцы борются за свои права. Все, что они требуют, это очищение их имени. Эту эстафету уже принимает третье поколение карачаевцев периода депортации.
Карачаевцы помнят историю депортации в деталях, из уст старшего поколения молодые впитывают боль своего народа.
Нынешняя молодежь поет песни об этом трагическом периоде истории, пишут стихи, романы, изучают документы тех долгих четырнадцати лет.
В 1943 году карачаевцы были незаконно депортированы из родных мест. В одночасье они лишились всего - родного дома, родной земли и нажитого имущества. Карачаевский народ был обречён на долгую и мучительную 14-летнюю ссылку. 12 октября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР принял секретный Указ «О ликвидации Карачаевской автономной области и административном устройстве ее территории». «Всех карачаевцев, проживающих на территории области» - отмечалось в Указе, - «переселить в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать».
14 октября вышло постановление СНК СССР о выселении карачаевцев из Карачаевской автономной области в Казахскую и Киргизскую ССР и передачи карачаевских земель грузинам (появление Клухорского района Грузинской ССР). В этих документах причины выселения объяснялись:
«В связи с тем, что в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь»
По переписи 1939 года на территории Карачаевской АО проживал 70 301 карачаевец. С начала августа 1942 и по конец января 1943 года она находилась под немецкой оккупацией.
Для силового обеспечения депортации карачаевского населения были задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек и 2 ноября состоялась депортация карачаевцев, по итогам которой в Казахстан и Киргизию были депортированы 69 267 карачаевцев. Из них в пути погибли 653 человека. Около 50 % депортированных были дети и подростки в возрасте до 16 лет, 30 % - женщин и 15 % мужчин. Призванные в Красную Армии карачаевцы были демобилизованы и депортированы 3 марта 1944 года.
Указ о депортации противоречил не только международному праву, но и Конституции СССР. Обвинения карачаевского народа, содержащиеся в данном Указе, а также в различных документах Правительства СССР, как показала проверка Прокуратуры и комитета госбезопасности в конце 80-х и 90-х годов ХХ века - беспочвенны и представляют собой грубую фальсификацию подлинного положения дел. Время доказало всю абсурдность этих обвинений. Подтверждением тому являются и данные об участии карачаевцев в Великой Отечественной войне. Общее количество мобилизованных в те годы составляло около 16 тысяч человек, 2 тысячи человек работало в трудовой армии.
Непривычный климат, холод и голод, отсутствие нормальных жилищных условий оказались губительными для горцев. По официальным данным, только за один 1944 год они потеряли 23,7 процентов людей. В целом же в результате депортации погибло более 60 процентов переселенцев.
По мнению доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации, численность карачаевцев в России сейчас составила бы 400-450 тысяч человек - вдвое больше, чем их есть на данное время (230-240 тысяч).
9 января 1957 года Черкесская АО преобразована в Карачаево-Черкесскую АО. Ей была возвращена территория, отошедшая после депортации к Краснодарскому краю и Грузинской ССР, а на бывшей грузинской территории были восстановлены карачаевские топонимы.
25 января 1957 года замминистра внутренних дел Толстиков подписал приказ "О разрешении проживания и прописки калмыкам, балкарцам, карачаевцам, чеченцам, ингушам и членам их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны".
14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы, признаны незаконными и преступными репрессивные акты против них на государственном уровне в виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения национально-государственных образований, установления режима террора и насилия в местах спецпоселений.
В 1991 г. был принят закон РСФСР "О реабилитации репрессированных народов", который определяет реабилитацию народов, подвергшихся массовым репрессиям в СССР, как признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до насильственного перекраивания границ.

Из воспоминаний о депортации карачаевцев
"На глазах погибали целые семьи. Помню соседей: их мать пошла искать под снегом замерзшую свеклу в поле, куда все наши ходили. Там женщину сбила с ног стая шакалов, сгрызли грудь. Все ее дети вскоре погибли от голода, всех похоронили во дворе. Весной с фронта пришел их отец. Помню, в полосатом чехле от матраца перенес он их останки на кладбище".Назифат Кагиева
"Когда мы оказались в вагоне, со мною были дочь - два годика и сын - три месяца. В дороге мальчик заболел и умер. В нашем поезде умирало много детей. Родителям не давали их хоронить. И я старалась скрыть, что мой младенец мертвый. Прошел день, другой, я держала сына на руках, но конвой все равно узнал, что у меня умерший ребенок. Хотели отобрать и выбросить из вагона. Я не дала, сказала, что похороню быстро на ближней станции.
Меня высадили у Саратова. Недалеко стоял полуразрушенный дом без крыши. Солдаты приказали: "Иди туда и оставь там ребенка". Я и пошла. Вошла внутрь и остолбенела. Кругом лежали трупы. На них снег. Я подошла к самому большому трупу, почистила от снега место рядом с ним и положила своего трехмесячного сына. И про себя сказала: "Охрани, солдат, моего малыша..." Не было никаких сил плакать..."
Марзият Джуккаева
"Я в Киргизии, в селе Военная Антоновка, хоронил одну семью - Кубанова Атчы и его супруги Саният. У них было шестеро детей. В дороге родился еще мальчик. Его назвали Кайытбий, от слова "къайыт" - "вернись". Родители надеялись, что сын вернется на родину. Однажды после долгих дней голода они получили паек - кукурузную муку. Мать сварила мамалыгу и накормила досыта всех детей. И сами родители впервые в изгнании поели досыта. Семья уснула. Но утром никто не проснулся. Они не знали, что после голода много есть нельзя".
Хусей Боташев
"Я ушел на фронт в первые дни войны. В 1943-м воевал на Курской дуге, был тяжело ранен, лежал в госпитале. Оттуда в середине ноября отправился в отпуск домой. Я ехал и радостно думал, как встретит меня мать, родные, мое село. Разве мог я представить, что меня ждет?
В село приехал ранним утром. Шел и думал: "Вот сейчас разбужу всех!" Вбежал во двор, открыл двери - и …пустота. Ни души. Нигде. Глухая тишина. Я растерялся, ничего не могу понять. Как сумасшедший, заглядываю во все углы - в сарай, подвал, курятник… Никого.
В правлении меня встретил капитан. Он показал указ, по которому с Кавказа выселили всех карачаевцев. Вышел я оглушенный на улицу, а навстречу наша соседка - Федора Прудникова. Увидела меня, заплакала, пригласила в дом. В военкомате мне позволили остаться в селе, пока не узнают адрес родных. Полтора месяца я жил у Прудниковых. В эти тягостные дни они были моей единственной опорой.
В день отправки нас, карачаевцев-фронтовиков, набралось на вокзале человек 80. Всех посадили на поезд и отправили вслед за родными".
Ибрагим Койчуев
"Говорят, что нельзя привыкнуть к смерти, а я думаю, что нельзя не привыкнуть к смерти, когда каждый день умирало столько людей…
Шел 45-й год. Недалеко от нас жила чеченская семья, которая вымирала на глазах. Сначала дети умерли, потом мать умерла. Остался один отец. Однажды он пришел к нам. На нем почти не было одежды. Он показал мешочек с кукурузой и сказал, что поменял одежду на килограмм зерен. А у нас варилась картошка. Он сказал, что пришел на запах, и попросил водички из-под картошки. Мама дала ему картошку. Но через два часа он все равно умер. Похоронили его в чем был. А кукурузу, которую он так и не успел поесть, отдали другой семье, где умирали от голода дети".
Халимат Айбазова
"Наш поезд остановился на станции Беловодск в Киргизии. Был конец ноября. Ветер, дождь, ледяная слякоть. Приказали выгружаться. Руководители хозяйств отбирали людей - брали рабочую силу. Мама с маленькими детьми (нас было трое, я - старший, семи лет) осталась под открытым небом в голой степи - никаким хозяйствам она была не нужна.
На другой день утром пришла русская женщина с двумя дочерьми и забрала нашу семью. Нас обогрели, накормили, уложили спать. Но ночь, проведенная на морозе, не прошла бесследно. Годовалый братишка Рашид метался в жару и через три дня умер. На седьмой день умерла сестричка Тамара. Ей было три годика".
Марат Кочкаров
"1944 год. Весна. Мы живем во Фрунзенской области, в селе Военная Антоновка. У нас пятеро детей - старшему семь лет, младшему полтора года. Я работаю где придется, жена пропадает на сахарных плантациях. И вот однажды она заболела. Врач сказал: воспаление легких, жизнь в опасности, надо везти в областную больницу.
Но без разрешения комендатуры выезжать из села нельзя. За нарушение спецрежима дают 20 лет каторги. Я пошел просить - отказал мне комендант. На другой день снова пришел - снова отказ. Только на третий день, после унижений и оскорблений, дал он наконец разрешение. Взял я у него эту бумагу, возвращаюсь домой. Только сошел с автобуса, вижу, наш двор заполнен людьми. И я понял, что жена моя умерла".
Хасан Джубуев
"Молодая женщина была сослана с малыми детьми. Рядом родственников нет. Муж на фронте. Без еды и крова. Детей было семеро! В течение короткого времени, словно больные цыплята, шестеро умерли и осталась она с самым маленьким. Последний тоже недолго протянул. Мать от горя потеряла рассудок: не отдавала она мёртвого ребенка людям для захоронения. Пришла с ним на кладбище и здесь, посреди могилок, безымянных бугорков шестерых детей, она и скончалась, так и не выпустив из своих оцепеневших рук бездыханное чадо..."
"В селении, где мы жили, одна женщина (в связи с малолетним возрастом имени и фамилии не помню), видя, что дети могут умереть с голоду, начала ночами ходить на окрестные поля и собирать там колосья. Каждую ночь приносила хоть сколько-нибудь зёрнышек пшеницы. И в одну из таких ночей двое сторожей, заметив её, погнались за ней. Она знала, что если поймают, или изобьют до смерти или отправят в тюрьму. Когда поняла, что преследователи догонят, женщина, добежав до речки, остановилась и у моста сорвала с головы платок, взъерошила волосы и села. Преследователи, увидев её, оцепенели от страха и с криком "Ведьма!" побежали назад. А "ведьма" эта ещё ни один раз, пугаясь собственной тени, и прижав к груди горсть зерна, возвращалась в полуночной мгле к своим детям".
"Другая мать, по воспоминаниям очевидцев, в первое время, когда депортированные в изгнании гибли семьями от голода, желая любым путем сохранить жизнь четверым своим детям, отдала их в казахские семьи. Через несколько лет, когда миновала голодная смерть, она пошла просить своих детей обратно. Но двоих из них не нашла. И на всю жизнь на лицо этой женщины была наложена печать ищущего, ждущего взгляда".
"...Так как железнодорожное полотно было однопутным, в ожидании прохода встречных составов, поезд простаивал долго. И тем не менее не на каждой остановке открывали двери вагонов. Иногда выпускали из набитого битком вагона, чтобы дать возможность людям подышать свежим воздухом. Иногда же, стоящие у дверей и окон автоматчики, не давали возможности даже взглянуть наружу. Житель Каменномоста Айдинов Хасан Башчиевич, участник войны, вернувшийся тяжело раненным с фронта, с больным сердцем, ехал в соседнем вагоне. На одном из остановок Хасан попросился выйти - не хватало ему воздуха. Но солдат никак не согласился его выпустить и тогда Хасан в отчаянии сам себе перерезал горло" О. Хубиев
"В первые месяцы переселения, умерших вне дома, не разрешали родственникам брать домой, хоронить по адату. Ссылаясь на то, что умер на работе - на поле - требовали, чтобы как труп животного, где-нибудь закопали и всё" (П. Абазалиев).
"Отцу было 96 лет, четверо его сыновей сражались на фронте. Когда он скончался в 1944 году, мы с братишкой с раннего утра до вечера рыли ему могилу. Едва управились - до того были слабы..."
М. Лайпанов
Балля Байкулова , из села Важное, умерла в 1989 году. Её муж погиб на фронте, трое детей похоронены в Баяуте. В её маленькой сакле со стен смотрели на неё три пары детских глаз и глаза молодого джигита, мужа. Балля, старая, больная женщина среди них казалось пришедшей из прошлого века. И кто знает, кому из них больше повезло: им, которые были обречены остаться навсегда юными и молодыми, или ей, которая прожила долго, но жила "вчерашним днем", и после 1946 года у неё не было ни настоящего, ни будущего. Даже термин "вчерашний" не верен - у неё не было жизни вообще после смерти детей. Там в 1946-м, положив свою душу в могилу вместе с детьми, она до 1989 года жила одним желанием покинуть этот мир.
"В дороге скончалась мать одной женщины. Её не дали ни похоронить, ни везти в вагоне дальше. Бросили тело просто на обочине дороги. Дочь её (мать троих детей, муж её был на фронте), желая облегчить и остудить жгучую боль сердца, садилась прямо на снег, и, когда тело остывало, ей казалось, что и в сердце боль утихает. Так сильно сжигало её горе... А после перестали у неё ходить ноги".